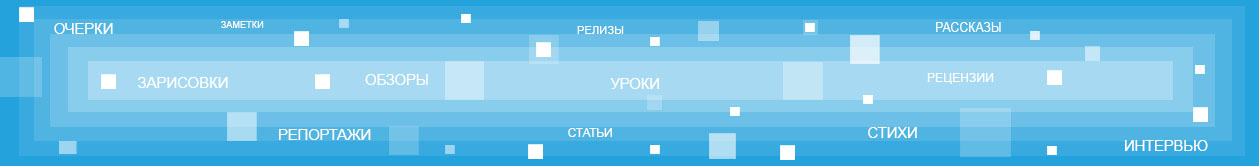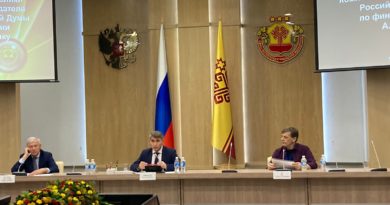ВОПРОС ИКОНОСТАСА
Л.А. Успенский
Иконостас — одна из важнейших принадлежностей православного храма. Он настолько слился с архитектурным обликом внутренности храма, что «представление о самой православной церкви сливается с представлением об иконостасе» (1). Действительно, до недавнего времени православных храмов без иконостаса не было. Однако, с возрождением Православия на Западе, точнее с появлением Православия западного чипа, такие храмы стали появляться. Вместо Иконостаса, алтарь в них отделен от нефа низкой преградой, подобной преградам, существовавшим в церквах первых веков христианства, или же принятой в современных римо-католических храмах table de communion. Такая форма оказалась наиболее приемлемой для православных западного обряда; иконостас же, в его настоящей форме, развившейся в рамках так называемого «восточного» обряда, для западных людей, привыкших к открытому алтарю, представляется скорее помехой, непонятным и ненужным нагромождением икон. За последнее время такое-же отношение к иконостасу встречается и в среде православного духовенства и мирян «восточного» обряда (2).
Как сплошная стена из икон, отделяющая алтарь от корабля, иконостас явление довольно позднее. Древние храмы ни па Западе, ни на Востоке его не имели.
Иконостас развивался, так сказать, «самотеком». Он никогда не был предметом церковного установления или распоряжения церковных властей. Не был он, за исключением очень общих определений (3), и предметом богословского обоснования или объяснения. Роль его, поэтому, для многих действительно не ясна. Кроме того, в наше время — время литургического возрождения и тенденции к «возвращению» к первым векам христианства — естественно и тяготение к первохристианским формам устройства храма. Все это повело к тому, что высокие иконостасы с «непонятным набором икон» стали восприниматься как препятствие к молитвенному участию верующих в таинстве Евхаристии. Некоторые из современных православных богословов прямо ставят в связь с иконостасом утерю первохристианского церковного сознания, выделение священнослужителей в особую категорию и превращение мирян, из участников таинства, в присутствующих при его совершении пассивных слушателей (4). «Святилище — алтарь — сначала постепенно отделяется от Народа, а затем совсем закрывается от него иконостасом. Церковная власть настаивает на том, что доступ в алтарь открыт только посвященным, и прежде всего, конечно, священству» (5). И далее: «Как иконостас, так и тайное чтение евхаристических молитв, собственно исключает народ от участия в трапезе Господней» (6). Отрицательное отношение к иконостасу принимает иногда крайние формы, относящиеся, правда, к временным церковным помещениям: это желание не только обойтись без иконостаса, но и поместить престол посредине храма, так, чтобы верующие могли его окружать, как это было принято у живоцерковников.
Нужно сказать, что проблема иконостаса в связи с «популяризацией» богослужения возникает не впервые. Так в начале нашего века, среди докладов по подготовке Всероссийского поместного собора имелась докладная записка Олонецкой духовной консистории, авторы которой настаивали на «уменьшении иконостаса» (7). Что следует понимать под этим «уменьшением иконостаса», за неимением возможности ознакомиться с подлинником, мы сказать не можем. Но интересно то, что вопрос этот был поднят опять-таки в связи с вопросом о гласном чтении «тайных» молитв, которые в литургической практике стали пониматься как «секретные», «потаенные» (8).
Нужно сказать, что так же как и иконостас, тайное чтение молитв никогда не было предметом церковного установления и вошло в литургическую практику в силу обычая. Однако если для упразднения иконостаса не требуется, в глазах его современных противников, особого соборного решения (во всяком случае о таком решении не говорится), то к вопросу о гласном чтении молитв отношение иное. «Надо всячески желать возвращения к древней практике, т. е. к восстановлению чтения молитв литургии вслух, но подобное возвращение в Церкви не смеет быть произвольным действием того или иного иерея, а только соборным решением высшей власти», пишет архимандрит Киприан (9). Такого мнения придерживается, насколько нам известно, большинство православного духовенства.
Помимо противников иконостаса в плане литургическом, он имеет немало противников и по причинам чисто практическим: закрытый иконостасом алтарь нередко становится местом частных разговоров, не имеющих отношения к богослужению и это шокирует верующих. Предполагается, что без иконостаса духовенство, не будучи отделено от мирян и оставаясь у них на виду, было бы менее склонно отвлекаться посторонними разговорами. Кроме того, иконостас способствует небрежному отношению к порядку и чистоте в алтаре. Странным образом эти непорядки вменяются в вину иконостасу, и притом главным образом самим клиром.
Не менее решительной критике подвергается иконостас и со стороны многих римо-католиков. Ввиду того, что развитие его современной формы в виде сплошной стены происходило уже после отделения Запада от вселенской Церкви, естественно, что римо-католики относятся к нему отрицательно. Это отрицательное отношение усугубляется тем, что иконостас, через униатство, проник и в самую Римскую Церковь, где был воспринят как помеха, создаваемая «восточным обрядом» для частого причащения и для поклонения Святым Дарам (10). Естественно, что у некоторых авторов встречаются попытки объяснить появление и развитие иконостаса чисто внешними причинами: «Когда, после Флорентийского собора, схизма возобновилась в безнадежной форме, греческое духовенство всячески старалось строить и украшать церкви таким образом, чтобы они возможно менее походили на латинские» (11). Или: «Одной из основных причин было обилие икон, накоплявшихся в церквах, что и новело, к образованию этажей или рядов, расположенных друг над другом» (12). Для других «эволюция иконостаса на Востоке была простой реакцией на иконоборчество, так же как на Западе поклонение Святым Дарам было реакцией на ереси Беранже и Лютера» (13).
Что касается роли иконостаса, то в римо-католической энциклопедии она представляется следующим образом: «В паши дни иконостас продолжает разделять надвое всякую церковь, где совершается богослужение греческого, так называемого православного чина; он отделяет духовенство от верующих, которым остается лишь в воображении (sic!) участвовать в евхаристическом жертвоприношении и терпеливо ожидать, чтобы оно окончилось» (14).
Один из современных, исследователей иконостаса резюмирует критическое отношение к нему римо-католиков следующими словами: «В их глазах сплошная форма иконостаса… уменьшает действенность богослужения, скрывая его; она отделяет священнослужителей от верующих; этим она парализует органическое единство богослужения» (15).
В плане архитектурном иконостас, разделяя церковь на две части, нарушает ее единство. Он скрывает от глаз молящихся алтарь с его росписью и упраздняет ту гармоническую композицию, которая должна объединять всю церковь (16).
Что касается самих униатов, то у них отношение к иконостасу различное. Одни, под влиянием латинского обряда, не терпят в своих церквах не только иконостаса, но даже обычной в католических храмах table de communion (17). Другие же считают необходимым сохранить иконостас как обязательную принадлежность литургии так называемого «восточного чина», а вместе с тем (например в Америке) и как черту украинской национальной культуры. Для этих последних по существу «возражения против иконостаса направлены против богослужения, против всей совокупности того, что отличает восточные богослужебные чины от чина латинского» (18). Очевидно именно идя навстречу этому направлению и вопреки приведенным выше взглядам римо-католиков на иконостас, Священная консистория для Восточной церкви доходит до того, что в своем распоряжении утверждает: «…пока нет иконостаса, престол считается непригодным для совершения богослужений» (19).
***
В храмах первых веков христианства алтарь отделялся от корабля преградой или завесой (20). Форма и высота первоначальных преград были различны: иногда это были сплошные низкие стенки или балюстрады по грудь человеку, иногда более или менее высокие решетки или ряд колонн с архитравом (космитисом) или без него. Эти преграды носили соответствующие их форме и виду названия: решетка, пояс, сетка и т. д. и были деревянными, металлическими или каменными. Такие преграды существовали во всем христианском мире, как на Востоке, так и на Западе (21). Из древнейших дошедших до нас литературных источников известие о существовании и назначении алтарных преград принадлежит Евсевию Кесарийскому. По его словам, в храме, сооруженном в Тире в первой четверти IV-гo века епископ «поместил престол посредине (алтаря) и отделил его великолепной деревянной резной оградой, чтобы народ не мог к нему приближаться» (22). Описывая же храм Гроба Господня, построенный св. Константином, Евсевий говорит, что в этом храме «полукружие апсиды было окружено столькими колоннами, сколько было апостолов» (23). Назначение этих колонн из слов Евсевия не совсем ясно, но поскольку двенадцать колонн отделяли алтарь от корабля и в римской базилике св. Петра, построенной также при Константине (24), можно полагать, что место и назначение их были аналогичны.
Были ли первохристианские преграды и завесы только практически необходимым ограждением алтаря от «непосвященных», или же их появление имело иные причины, связанные с потребностями и происхождением христианского культа? Для освещения этого вопроса, за отсутствием бесспорных вещественных памятников и письменных свидетельств первохристианской эпохи, обратимся к данным Литургической науки.
Современной литургической наукой окончательно установлена генетическая связь между христианским культом и литургической традицией иудейства. Основываясь на работах современных литургистов (25), прот. А. Шмеман пишет: «Христиане продолжали видеть в иудейском богослужении норму, сохраненную ими даже после разрыва с иудейством.
Эта норма не только не могла быть в противоречии с новизной христианства, (новизна веры и жизни), но напротив, должна была так или иначе включать эту последнюю в себя, в ней иметь свое ‘мерило’» (26). И еще: «Старый ветхозаветный культ был осознан христианством не только как провиденциальное подготовление и прообраз нового, но и как его необходимая основа, ибо только через ‘транспозицию’ основных его категорий — храма, священства, жертвы, — возможно было выразить и явить новизну Церкви, как явление обещанного, как исполнение чаемого, как эсхатологическое свершение» (27). Эта «транспозиция» одной из основных категорий, храма, отражается в его осознании как продолжения в христианстве и ветхозаветного храма, и синагоги (28): как молитвенное собрание верующих (ἐκκλησία) христианский храм продолжает синагогу; но в то же время он продолжает и ветхозаветный храм в том смысле, что он не только место собрания и молитвы, но и место сакраментальное, место жертвоприношения (29). По существу здесь больше чем продолжение; здесь исполнение, наполнение новым смыслом; и это не меняет, а скорее предполагает заимствование и культового оформления. Можно полагать, что это оформление было изначала связано с теми формами богослужения, которые христианство приняло от иудейства, т. е. с оформлением культа храмового и синагогального. Так пространство христианского храма, как и место жертвоприношения ветхозаветного храма и место чтения Священного Писания в синагоге, рассматривается в перспективе тех функций, которые в нем осуществляются. Сама структура общины в литургии, ее разделение на совершителей таинства и его участников («а разделение это… является постоянным в христианском культе с самого его зарождения» (30)), выражается в пространственном делении храма, в частности в выделении того места, где совершается таинство (31)и которое обусловливает все внутреннее распределение христианского храма, являясь его духовно-смысловым центром (32). Это место, где находится престол, на котором присутствует прославленное Тело Христово, уже тем самым выделено, образуя Священное пространство, алтарь, виму (33). Святыми Отцами вима толкуется как «место являющее второе пришествие из-за Восседающего в нем, который будет судить живых и мертвых» (34). Понимание вимы как места суда в его эсхатологической перспективе объясняет двенадцать колонн Константиновских храмов «по числу апостолов», которые сядут «на престолах судить двенадцать колен Израилевых» (Мф. 19, 28; Лк. 22, 30). Это показывает, что такое понимание вимы очевидно восходит к первым векам христианства и в IV веке уже имело свое символическое выражение, а в дальнейшем и образное, в виде уготованного престола, этимасии, как места Судии второго пришествия, как раз на грани алтаря, на своде алтарной арки, а также в виде изображения Христа с двенадцатью апостолами или той же этимасии на триумфальной арке.
Внешним признаком иерархичности частей храма и была в христианских церквах завеса или преграда, или и то и другое вместе. По мнению одного из первых исследователей иконостаса, «употребление завес, по видимому, древнее самих преград алтарных. Они упоминаются в первые века христианской литургии» (35). Возможно, что завесы и были наиболее древней их формой (30), Во всяком случае, уподобление апостолом Павлом плоти Христовой завесе (Евр. 10, 20) могло вызвать первоначально употребление именно завесы на грани святого святых новозаветного храма по аналогии с завесой храма ветхозаветного. В этом смысле мы и находим аналогию с ветхозаветной завесой у святого Софрония Иерусалимского, но в применении не к завесе, а к космитису преграды. Если космитис, украшенный крестом, является изображением (έκφράγισμa) распятого Христа (т. е. плоти Христовой), то он же является и образом (τύπος) катапетасмы (37). И в дальнейшем, как мы увидим ниже, в какую бы форму ни выливалась алтарная преграда, аналогия ее с ветхозаветной катапетасмой продолжает жить в церковном сознании.
Таким образом можно полагать, что преграда или завеса, как выражение принципа деления, отнюдь не простое отделение «посвященных», а имеет корни в культовом наследии Ветхого Завета и связана со смыслом культа христианского. То, что в Ветхом Завете было будущим, стало настоящим. Но это настоящее, в свою очередь, есть предвосхищение и образ будущего. Царство Божие, явленное во Христе, есть Царство будущего века. Причастие этому Царству не упраздняет грани между временным и вечным и грань эта, в храме, обозначается и расположением места, и его выделением. Преграда, завеса, а позже иконостас, отделяя алтарь от корабля, есть грань между двумя мирами: вневременным и временным (38). В дальнейшем все развитие алтарной преграды и превращение ее в сплошной иконостас идет именно по линии все большего раскрытия смысла этой грани. Она не «отделяет все более священство от народа», исключая последний из участия в таинстве, а наоборот, как мы попытаемся показать, все, более и более раскрывает эту грань не только как разделение, но и как соединение, как выражение взаимопроникновения временного и вечного, алтаря и корабля. Так же как в человеке, по слову святого Максима Исповедника, сочетается духовное и телесное, причем первое одухотворяет последнее, так и в храме корабль, соприкасаясь с алтарем, просвещается и руководится им и становится его выражением (39). На пути этого раскрытия на Востоке алтарная преграда превращается в сплошную стену из икон, на Западе отмирает.
***
В Византии преграды обычно состояли из мраморных барьеров и колонн, которые несли архитрав (40). Со стороны алтаря за ними была завеса, которая задергивалась или отдергивалась в зависимости от момента богослужения (41). Таким образом, в формировании преграды, мы имеем три элемента: подвижную завесу, барьер, заимствованный из светской базилики, где он отделял государственных чиновников от народа, и колоннаду, которая в античной архитектуре выражала идею открытия (также как стена — идею закрытия) (42). Если барьер отделял алтарь от корабля, то колоннада, наоборот, их соединяла. Такие преграды с колоннами входили в архитектурный ансамбль, с которым они были согласованы, выделяя алтарь, подчеркивая его значение и важность места совершений таинства. Низкие барьеры со свободным пространством между колоннами не закрывали росписи алтаря (мозаики и фресок), которые и были рассчитаны на то, чтобы их видели стоящие в храме.
Развитие иконографической тематики алтарной преграды, ее превращение в иконостас, началось очень рано. Обычно на архитраве высекали или на него ставили крест (43). Но уже Юстиниан Великий (VI век), поставив в Константинопольской св. Софии, по примеру святого Константина, двенадцать мраморных колонн, поместил на архитраве рельефные изображения Спасителя, Богоматери, ангелов, апостолов и пророков (44). Это все, что мы знаем об иконографическом содержании алтарной преграды до иконоборчества, когда ее развитие было прервано больше чем на сто лет, и не только прервано, но было уничтожено все, сделанное до тех пор. После иконоборчества, общее упорядочение богослужения и церковного искусства несомненно коснулось и алтарной преграды. Так, например, известно, что по приказанию императора Василия Македонянина (867–886), архитрав был украшен изображением Спасителя (45). В развитии иконостаса наступает новый период. При данных, которыми мы располагаем в настоящее время, по мнению А. Грабаря, можно сделать следующие выводы: «В византийских церквах с XI по XIV век иконостас представляет собой портик с колоннами и свободным между ними пространством. Изображения помещаются только на архитраве. Однако именно в это время большие писанные иконы появляются сначала, по-видимому, преимущественно на стенах, продолжающих иконостас, а затем на самом иконостасе между колоннами» (46). Это были прежде всего иконы Спасителя, Богоматери и святых храма (47). Выше помещались праздники и лицевые святцы или менологии (48) и на архитраве, над царскими вратами, основная трехчастная икона — Деисис. Δέησις значит моление, ходатайство новозаветной Церкви в лице молитвенно обращенной ко Христу Богоматери по правую от Него сторону, и ветхозаветной Церкви в лице Предтечи, по левую (49). Как мы увидим, ниже, деисис и был тем ядром, из которого развилась вся тематика иконостаса.
Естественно, алтарная преграда вызывала символические толкования и смысловые разъяснения, которые объясняют ее не как разделение, а как соединение двух частей храма. «Посему поверх столбов, говорит святой Симеон Солунский, космитис означает союз любви и единство во Христе земных святых с небесными. Оттого и поверх космита, посредине между святыми иконами, изображается Спаситель и по сторонам от Него Богоматерь и Креститель, ангелы и апостолы, и другие святые. Это научает нас, что Христос находится и на небесах со Своими святыми, и с нами теперь, и что Он еще должен прийти» (50).
Византийские преграды, во всяком случае, не превышали двух-трех рядов икон (51). В таком виде и в том же символическом значении преграда перешла на Русь, где, по древним источникам, она называлась перегородой, оградой или заградой (52). Однако на Руси в ней был произведен ряд существенных по своему смыслу изменений, как в умножении ярусов или тябл, так и в их размещении и распределении икон. В XIV веке на Руси уже существовали многоярусные иконостасы (53). В виде сплошных стенок они появились, по-видимому, первоначально с древнейших времен в деревянных церквах (54), где из-за небольшой высоты, они уже закрывали алтарное пространство (55). Эта эпоха, собственно XIV век, связанная с движением исихазма, представляет расцвет богословской мысли, литургического творчества иконописи, и дальнейший этап в развитии алтарной преграды. Именно в это время, появляются отделяющие алтарь, сплошные, более или менее высокие каменные стены с тремя отверстиями для дверей (56). Эти каменные стены, по мнению некоторых исследователей, представляют собой «посредствующее звено между древней алтарной преградой и позднейшим высоким иконостасом» (57).
Судя по сохранившимся иконам из древних русских иконостасов дорублевского времени, они состояли, как и византийские темплоны, из трех ярусов: местного, деисисного и праздничного, причем иконы были небольших размеров и деисисные чины главным образом полуфигурные (58). Однако располагались эти ряды здесь уже иначе: праздничный ярус, помещавшийся в Византин под архитравом, на самой преграде, здесь помещается на архитраве, обычно над деисисным ярусом.
Помимо размещения ярусов одного над другим, увеличение иконостаса в высоту происходило путем увеличения размеров икон. Так Феофан Грек и Андрей Рублев, работая в Московском Благовещенском соборе в 1405 году, написали иконы деисисного чина в рост, необычных для того времени размеров: более двух метров высоты (59). А в 1408 году Андрей Рублев и Даниил Черный, работая во Владимирском Успенском соборе довели высоту икон деисисного чина до 3,14 метров и добавили пророческий ярус. Таких размеров иконы придавали иконостасу невиданные дотоле торжественность, монументальность и выразительность, но он окончательно скрыл алтарное пространство от глаз молящихся. В эту эпоху иконостас приобретает доминирующее значение и становится одним из основных элементов храма. Однако нарастание иконостаса не было одновременно повсеместным и общим и, наряду с высокими иконостасами, продолжали существовать и древние преграды (60).
В начале XVI века к иконостасу добавляется новый ряд — праотеческий (61). С его появлением складывается окончательный тип классического пятиярусного иконостаса. В таком виде он приобретает, как мы увидим ниже, характер законченной, образно-богословской системы.
Однако на этом увеличение иконостаса не останавливается и в XVII веке, сверх пяти классических, появляются яруса, которые в литературе называются «дополнительными» (62). Всеобщее число ярусов в некоторых храмах доходит до семи. С началом XVII века над праотеческим рядом появляется отдельный ярус херувимов и серафимов, живописных или резных (63). В это время верх иконостаса нередко завершается, вместо креста, иконой Нерукотворного Спаса или Господа Саваофа (64). Однако, во второй половине XVII века, после Большого Московского Собора 1666–1667 гг., запретившего изображение Бога Отца, иконостас стал увенчиваться крестом с изображением Распятия. В некоторых церквах к нему вскоре присоединили предстоящих Богоматерь и Иоанна Богослова. Очевидно буквально понимая слова Собора «зряще во святей Церкви на Распятие и страсти Спаса нашего Иисуса Христа», прибавили изображения страстей. Образовался так называемый страстной ярус (65), Этот ряд постепенно вытеснил ярус херувимов и серафимов. Почти одновременно со страстями Господними появляется ярус апостольский, а в конце XVII века даже ряд апостольских страданий. Но это было уже редким исключением, роскошью, доступной только богатым церквам. (66).
С появлением, этих новых ярусов происходит нагромождение рядов и перегруженность иконостаса, которая приводит к утере его догматической ясности и полноты, монументальности и образности. Четкость его содержания начинает растворяться в повествовательности. Общая тенденция церковного искусства этой эпохи захватывает и иконостас.
Во всем остальном православном мире низкие алтарные преграды продолжали существовать, по-видимому, вплоть до конца XVII – начала XVIII века, когда под русским влиянием высокие иконостасы перешли на Афон, а оттуда, в эпоху турецкого завоевания, в Грецию и на Балканы (67).
На Руси же эволюция иконостаса принимает другое направление. Так в конце XVII – начале XVIII века получают большое развитие иконостасы, украшенные богатой деревянной резьбой. По-видимому нагромождение ярусов привели к тупику и иконостас превращается в декоративный элемент. «Как в столичных, так и в провинциальных современных храмах (XVIII–XIX вв.), пишет Сперовский, мы можем встретив иконостасы, устроенные в самых разнообразных архитектурных стилях, украшенные богатыми рамами, прекрасною и затейливою резьбою, колоннами и пилястрами всех ордеров и т. п.» (68).
Такова в очень общих чертах история превращения алтарной преграды в иконостас. Такая его форма была подготовлена всем предшествовавшим развитием церковного искусства и представляет собой результат долгой исторической эволюции на пути к максимальному раскрытию христианского вероучения. Характерно то, что в эволюции оформления христианского культа, алтарная преграда в своей древней, т. е. низкой форме, нигде не удержалась: она или развивается, как в православной Церкви, или отмирает, как на Западе.
* * *
В науке утвердился взгляд на иконостас как на своего рода замену или повторение церковной росписи. «Дотоле, говорит один из исследователей XIX века, иконы (речь идет о стенной росписи) помещались на триумфальной арке, в алтарной апсиде, в парусах сводов и на средней части храма; в XVI же веке все они были перенесены на иконостас (69). Это перенесение было, по мнению автора, одной из причин возникновения высоких иконостасов. По мнению других авторов, отдельные яруса представляют собой ни что иное как развернутую тематику различных архитектурных частей храма (70). На это уже в свое время возражалось, что при наличии иконостасов, храмы все же расписывались и продолжают расписываться, так что дело очевидно не в замене или повторении (71). Тем не менее, теории эти, высказанные впервые более полувека назад, продолжают господствовать в науке и повторяются до настоящего времени (72). Они безусловно способствуют отрицательному отношению и некоторых верующих к иконостасу, как к ненужному повторению храмовой росписи.
Правда, на первый взгляд, приведенные теории могут показаться обоснованными. Действительно, «основные элементы росписи» храма существуют и в иконостасе и многие сюжеты встречаются и там и тут. Более того, в некотором плане назначение и смысл росписи и иконостаса совпадают. Однако это нисколько не упраздняет их существенного различия. Правильно понять соотношение росписи храма и иконостаса можно лишь исходя не из внешних признаков сходства и иных частностей, а из назначения того и другого, из той роли, для которой они предназначены. Если там и тут повторяются одни и те же изображения, то повторяются они в совершенно ином контексте. На этом основании можно утверждать, что иконостас не мог принять на себя «функцию росписи» (73) или заменить ее потому, что назначению и роль его по существу иные, И нет ни малейших оснований полагать, что мастера (а иконостасы писали обычно те же, которые расписывали храмы) бездумно повторяли одно и то же, не входя в суть дела. В наше время вопрос о невежестве и неспособности древних иконописцев давно отошел в область предания.
Храм имеет определенную систему росписи, выработанную в послеиконоборческий период (74). Но это отнюдь не означает, что система эта имеет постоянную, неизменную во всех частях храма тематику. Существует определенная схема, которая в одних частях храма требует постоянной тематики, в других же допускает большое, разнообразие и наполняется более или менее произвольно (75). Однако это нисколько не меняет основного смысла храма. То, что символически выражено самими архитектурными формами (купол — небо, корабль — земля и т. д.) уточняется и подчеркивается росписью. Со всем, что входит в его литургическое оформление, православный храм в целом представляет собою все мироздание. Он — образ мира (76), обновленного, преображенного космоса, образ восстановленного вселенского единства, которое противуполагается всеобщему раздору и вражде среди твари. Это мир, построенный в храм и завершенный главою — Христом. Поэтому в греческом Подлиннике рекомендуется вокруг Господа Вседержителя в куполе делать следующую надпись: «Видите, видите, яко Аз есмь, и несть Бог разве Мене (Второзак. XXXII, 39) и «Аз сотворих землю и человека на ней, Аз рукою Моею утвердих небо» (Ис. XLV, 12) (77), Иначе говоря, храм раскрывается как образ определенного состояния вселенной, того состояния, которое переживается Церковью как норма, подлежащая достижению и находящаяся уже за гранью истории. Отсюда определение храма как «рая», «царствия Божия» и т. п. Литургия начинается торжественным возгласом: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа»: образом этого Царства и есть храм. Поэтому, входя в него, человек из мира временного вступает в мир вечный, в царство будущего века, где «времени больше не будет» (Апок. X, 6).
Если роспись храма не во всех своих частях имеет постоянную и неизменную тематику, то в иконостасе тематика строго последовательна, как в целом, так и в отдельных своих частях. Варианты могут быть здесь только в выборе отдельных святых. Место же их расположения остается всегда то же. Это показывает, что иконостас имеет особое назначение внутри обще храмового контекста, что его «тематика подчинена каким-то другим требованиям и другим задачам, чем роспись храма. Следовательно, она не может быть повторением последней или простым перемещением одних и тех же изображений с одного места на другое.
Что же представляет собой иконостас, каково его значение и смысл? Чтобы уяснить это, необходимо прежде всего обратиться к его иконографическому содержанию.
Характерно то, что на протяжении веков иконографическое содержание иконостаса не менялось. (По крайней мере в главных чертах это относится даже к XVII и XVIII векам, когда различия в деталях встречаются довольно существенные). Такое последовательное единообразие уже отмечалось в исследованиях. Оно объяснялось той устойчивостью, которой отличалось древнерусское церковное искусство, «всегда строго державшееся преданий старины и не любившее быстрых и произвольных изменений» (78). Такого рода объяснение удовлетворить нас, конечно, не может. Иконостас развивался из алтарной преграды в течение многих веков с замечательной последовательностью и устойчивость его сложившейся формы совсем не была пассивным следованием преданию. Для нас не представляет сомнения, что эта устойчивость, как и само развитие алтарной преграды в иконостас, есть результат богословского осознания того места храма, которое имеет непосредственное отношение к Литургии.
Как было сказано выше, классический иконостас содержит пять рядов икон (79): местный, деисисный, праздничный, пророческий и праотеческнй, завершаемые крестом (см. схему).
![]()
1 — Царские врата; a и a1 — Благовещение; б, в, г, и д — Евангелисты; 2 — Евхаристия; 3 — колонки с изображениями отцов литургистов; 4 — Икона Спасителя или храмовая икона; 5 — Икона Богоматери; 6 и 7 — северная и южная двери с изображениями архангелов или святых диаконов; 8 и 9 — другие иконы; деисисный чин; 11 — иконы праздников; 12 — пророческий ярус; 13 — праотеческий ярус.
В основном содержание его иконографии сводится к следующему:
Верхний ряд или чин, праотеческий, представляет первоначальную ветхозаветную Церковь от Адама до Закона Моисеева, «период дозаконный», в лице ветхозаветных патриархов с соответствующими текстами на развернутых свитках. В центре этого яруса помещается образ Святой Троицы — явление Аврааму и Дуба Мамврийского, как первый завет Бога с человеком и первое откровение Триединого Бога. (Во второй половине XVI–XVII веках здесь обычно помещалось так называемое «Отечество»).
Ниже — ряд пророческий, представляющий ветхозаветную Церковь от Моисея до Христа, «период подзаконный». Он состоит из изображений пророков, также с развернутыми свитками в руках, на которых написаны тексты из их пророчеств о Боговоплощении (80). В центре этого ряда образ Знамения Богоматери (отсюда название яруса «Богородичный чин») — образное переложение пророчества Исайи (VII, 14): «Сего ради дасть Господь Сам вам знамение: се Дева во чреве приимет и родит Сына и наречеши имя Ему Эммануил». Изображение Богоматери с Отроком Эммануилом в лоне и есть это знамение, возвещенное пророком и явленное миру в своем осуществлении.
Оба эти ряда показывают предображение Церкви новозаветной, ее предуготовление в предках Христа по плоти и предвозвещение в пророках. Таким образом икона Боговоплощения посреди пророческого ряда указывает на непосредственную связь между Ветхим и Новым Заветом (81). В отличие от храмовой росписи, где отсутствует хронологический порядок в размещений праотцев и пророков и где все они соотносятся с изображением Вседержителя в куполе, здесь каждый из этих ликов представляет определенный период священной истории, подготовительный процесс во времени, и каждый из них соотносится со своим центральным образом, являющим вершину их предуготовлений и пророчеств.
Следующий ярус иконостаса, праздничный, представляет собою период новозаветный или благодатный. Он выражает исполнение того, что предвозвещено в верхних рядах (82).
Как уже отмечалось выше, в Византии этот ярус помещался под деисисом, на самой преграде, на небольшой сравнительно высоте, так что икону очередного праздника легко можно было снять и положить на аналой. На Руси в классическом иконостасе этот ряд стал помещаться над деисисом (83). Таким образом установилась определенная смысловая последовательность: так же как праотцы и пророки во времени предшествовали воплощению, так и ряды их изображений, по своему месту и смыслу, непосредственно предшествуют ряду воплощения — праздникам. «Один (Завет) говорил о Христе, другой же совершил; один написал в образах, другой ясно показал Истину» (84).
Праздничный ярус — не повторение росписи стен храма; это не последовательная иллюстрация евангельской истории и не произвольный выбор тех или иных ее событий. Здесь изображены те события Нового Завета, которые, составляя годовой литургический круг, особенно торжественно празднуются Церковью, как своего рода главные этапы промыслительного действия Божия в мире, постепенное осуществление спасения… Обычно в храмовых иконостасах этот ряд состоит из икон Воскресения и главных, так называемых двунадесятых праздников: шести Господних (Рождество, Крещение, Сретение, Вход во Иерусалим, Вознесение, Преображение), четырех Богородичных (Рождество Богородицы, Введение, Благовещение, Успение) и двух собственно экклезиологических: Пятидесятницы и Воздвижения Креста Господня. При наличии свободного места к ним присоединяются иконы других праздников, менее важных, а также икона Распятия. Обычно праздничные иконы располагаются по течению церковного года, но иногда и в хронологическом порядке.
Следующий ряд иконостаса называется деисисным чином, или просто чином. Здесь ангелы и святые (апостолы, их преемники — святители, преподобные, мученики и т. д.) в определенном порядке присоединяются к центральной теме: трехчастной иконе древней алтарной преграды — деисису.
Ввиду того, что слово это понималось по-разному, нам кажется полезным остановиться на его значении.
На Руси слово «деисис» применялось и в более узком смысле, к трехчастной иконе, основному ядру алтарной преграды, и шире, ко всему чину, и вообще к собранию икон (85). Характерно, что долгое время слово «деисис», и в период домонгольский и после него, служило для обозначения всего иконостаса (86), т. е. на Руси долгое время называли деисусом то, что греки называют темплоном (87). Еще в XVII веке Большой Московский Собор называет иконостас деисусом (88). В словаре Срезневского слово это предположительно связывается с греческим δέησις (молитва) или δισσός (двойной). (Во втором случае сходство явно чисто фонетическое). Е. Голубинский объясняет применение этого слова к иконе надписью, которая делалась строителями храма на космитисе, и затем была применена к темплону. Начиналась она словами: δέησις του δούλου Θεού, т. е. (сия Церковь) «моление раба Божия» (89). Другие исследователи полагают, что это название произошло от содержания трехчастной иконы (моления). Это безусловно так, но все же не объясняет применения этого слова ни ко всему иконостасу, ни к собранию икон, где могут быть иконы, не выражающие непосредственно моление.
Мы полагаем, что на Руси греческое слово «деисис» было воспринято как составное из двух русских; его перевели русифицируя, на что указывает и его транскрипция всегда через «у» (от собственного имени Иисус) и часто через ЯТЬ (90). Иначе говоря, слово «Деисис» было понято не столько в его прямом смысле, как моление (что конечно не исключалось), сколько в смысле более широком и глубоком, как деяние, как дело (через ЯТЬ) Иисусово, как домостроительство Христово. Весь состав классического иконостаса дает определенное основание для расшифровки слова «деисис», в его русской транскрипции и понимании, именно и этом смысле. На Руси пошли по пути раскрытия основного и максимального смысла центрального образа Христа в соответствии с чинопоследованием Литургии, как дела Христова. Все ряды иконостаса: чин, пророки, праотцы и праздники, представляют собою, в конечном итоге, ничто иное, как раскрытие смысла первой и основной иконы древней алтарной преграды, образа Христова, а еще ранее креста, который сам понимается как дело Божие, как раскрытие господства Христа (91). Исключением не является и местный ряд, о котором будет речь ниже, потому что, если и не в прямой последовательности, то по своему смыслу он включается в общий строй основной темы. Таким образом, понятно применение слова «деисис» к собранию икон вообще.
В росписи храмов деисис изображался на арке перед апсидой, над алтарной преградой (92). Повторял ли он деисис на самой преграде, или же изображался на арке в тех случаях, когда на преграде его не было, — мы не знаем. Во всяком случае, если он и перешел с арки на иконостас, то здесь нельзя говорить об изменении его места: по существу и по смыслу место это осталось тем же самым: деисис лишь вошел в круг изображений, которые более полно раскрывают его смысл.
Весь чин есть ничто иное, как непосредственно развернутый деисис. Он являет результат боговоплощения и Пятидесятницы, исполнение новозаветной Церкви, т. е. исполнение того, что показано в трех верхних рядах иконостаса, и является поэтому центральной и главнейшей его частью. Основная тема чина — моление Церкви за мир. Святители, преподобные, мученики, изображенные на столбах храма как столпы Церкви, здесь — ходатаи за грешников перед престолом Божиим. Это молитвенное предстояние святых перед престолом Судии представляет завершение каждого типа святости (епископской, мученической, княжеской…), каждого отдельного пути, указывая одеждами и атрибутами на их земное служение (93).
Нижний ярус иконостаса — местный: по обеим сторонам от Царских врат помещаются две большие иконы, обычно Спасителя и, направо от Него (влево от зрителя) Богоматери с Младенцем. Хотя встречаются исключения из этого правила и икона Спасителя иногда заменяется храмовой иконой, которая некогда помещалась рядом с иконостасом (94), тем не менее эти иконы, помещавшиеся здесь еще на византийских темплонах, были обязательны для русских иконостасов (95). Перед ними читаются включенные во входные молитвы (судя по контексту очевидно после иконоборчества) исповедание образа Спасителя перед самым этим образом и обращение к Богоматери перед Ее иконой. Местные иконы представляют собой предмет наиболее близкого и непосредственного общения и почитания: к ним прикладываются, перед ними ставят свечи и т. д.
Под местными иконами помещались изображения, относящиеся к поминовению усопших (96).
На северных и южных вратах изображаются архангелы или святые диаконы, как сослужители при совершении Таинства. На южной двери архангел иногда заменяется благоразумных разбойником Рахом, чем подчеркивается понимание этих дверей как входа в небесный рай, символом которого является алтарь («Днесь со Мною будеши в раи») (97). Если остается свободное место по сторонам дверей, оно заполняется другими иконами. Этот ярус не только не имеет строгого ритмического распорядка других ярусов, но часто вообще асиметричен. Составляющие его иконы обычно крайне разнообразны и зависят от местных потребностей и характера данного храма.
«Царские» двери, «святые», иногда «райские», существуют со времени первоначального устройства алтарной преграды (98). Украшаться иконами они также стали «с древнейших времен» (99). А. Грабар считает, что уже в V–VI веках Царские двери украшались изображениями (100). Обычно здесь помещается Благовещение и под ним четыре евангелиста (101). При низкой алтарной преграде Благовещение помещалось на столбах апсидной арки. Перемещенное на Царские врата, оно, так же как и деисис, по существу не переменило своего места, потому что его смысл связан именно со входом в алтарь. Символически Царские врата представляют вход в Царствие Божие, небесный рай. Благовещение здесь — начало, «главизна нашего спасения», открывающего человеку вход в это Царствие; оно — олицетворение той вести, которая возвещена евангелистами. Между евангелистами на Царских вратах и евангелистами в парусах купола аналогия в том, что и там и тут они — проповедники Царствия Божия. Но паруса с их изображением — четыре конца вселенной, пространство, просвещенное светом евангельского учения. Здесь же благовестие их относится непосредственно к человеку, приходящему сюда для приобщения этому Царствию. Здесь, на солее, на грани между алтарем и кораблем, совершается причащение верующих, их сочетание с Церковью. Поэтому над вратами помещается изображение Евхаристии; это литургический перевод Тайной Вечери: причащение апостолов самим Христом. Обязательность причащения под двумя видами выражается двойным изображением: с одной стороны Спаситель преподает шести апостолам хлеб, с другой шести другим чашу. Тема причащения апостолов подчеркивает и выделяет первосвященническое служение Христа, которое выражается здесь в прямых Его действиях как Первосвященника.
***
Сделанный нами беглый обзор тематики иконостаса показывает, что он далеко не случайное и бессмысленное «нагромождение икон»; он — плод многовекового, целеустремленного развития и имеет определенную направленность. Его тематика раскрывает смысл грани между алтарем и кораблем, между временным и вечным. Этот смысл — взаимопроникновение того и другого, их единство. И это выражение единства в раскрытии образа Христова.
Изначальное изображение креста на алтарной преграде раскрывается в образе Спасителя. Сам крест, как знамение славы, переносится наверх архитрава. Он «не столько крайняя степень уничижения, сколько раскрытие божественной славы и силы» (102), явленных в Личности Иисуса Христа, образ Которого становится центральным на архитраве (103). С появлением образа Христова тематика преграды уже не могла не раскрываться дальше: «Христос никогда не один. Он всегда — Глава Своего Тела. Как в православном богословии, так и в благочестии, Христос никогда не отделяется от Своей Матери, Богородицы, и от Своих ‘друзей’, святых. Искупитель и искупленные неотделимы друг от друга» (104). Раскрытие образа Христова первоначально, как мы видели, осуществлялось в основном ядре иконостаса — деисисе. Это единство во Христе Ветхого и Нового Завета, «исполнение радости» последнего из пророков, Иоанна Предтечи, «друга Жениха» (Ио. III, 29) — появление на земле невесты Христовой — Церкви, олицетворяемой Богоматерью.
Дальнейшее раскрытие образа Христова есть раскрытие домостроительства Божия. Непосредственно перед взором верующего, на одной плоскости, легко обозреваемой с любого расстояния, иконостас показывает пути этого домостроительства: историю человека, созданного по образу триединого Бога и пути Бога в истории. Переданные в необычайно широком охвате молитвой евхаристического канона, пути этого домостроительства находят свое точное образное выражение в иконостасе. «Ты, и единородный Твой Сын, и Дух Твой Святый: Ты от небытия в бытие нас привел еси, и отпадшия восставил еси паки, и не отступил еси вся творя, дондеже нас на небо возвел еси, и царство Твое даровал еси будущее». В иконостасе «начиная с образа Святой Троицы, Предвечного Совета и источника бытия мира и промышления о нем, сверху вниз идут пути божественного откровения и осуществления спасения: постепенно, через предуготовления Ветхого Завета, предображения и пророческие предвозвещения, к ряду праздников — исполнению предуготованного, и к грядущему завершению домостроительства Божия, деисисному чину, все как бы стягивается к Личности Иисуса Христа, «Единого от Святыя Троицы». Чин есть завершение исторического процесса: он образ Церкви в ее эсхатологическом аспекте. Жизнь Церкви здесь как бы резюмируется в ее высшем и постоянном назначении — предстательстве святых и ангелов за мир. Центральный образ Христов не только объединяет вокруг себя деисисный чин; он — ключ ко всему иконостасу. Все объединены в единое тело. Это сочетание Христа с Его Церковью: totus Christus, caput et corpus. Это единство и есть основная тема иконостаса, которую с предельной ясностью и силой выражает деисисный чин. Он наглядно показывает, что «конечной целью боговоплощения и было … то, чтобы у Воплщенного было ‘тело’, которым и является Церковь, новое человечество, искупленное и вновь рожденное в своей Главе» (105). Если Литургия осуществляет и созидает Тело Христово, Церковь, то иконостас его показывает, ставя перед глазами верующих образное выражение того, во что они входят как члены, показывает Тело Церкви, созидаемое по образу Святой Троицы, помещаемому вверху иконостаса: многоединство лиц по образу божественного триединства.
В ответ на божественное откровение, снизу вверх идут пути восхождения человека. Через приятие евангельского благовестия (евангелисты на царских вратах), сочетание воли человеческой с волей Божией (в этом смысле изображение Благовещения на царских вратах есть образ сочетания двух воль) и наконец через причащение таинству Евхаристии, осуществляет человек свое восхождение к тому, что изображает деисисный чин, к единству Церкви, становясь «сотелесником Христа» (Еф. III, 6). Потому и изображается чин над тем местом, где происходит причащение верующих. С этим связан один из основных его аспектов — аспект суда. То новое, что внесло христианство, это момент суда, который вошел с Евхаристией. Человек причащается своему собственному суду: «суд себе ям и пию». Это подчеркивается во всех молитвах перед причащением. Древнее понимание грани как места суда здесь передано изображением Христа во славе, т. е. Христа Судии, окруженного заступниками и предстателями, подобно тому, как он изображается на иконах Страшного Суда. Только через суд включается человек в то, что показывает иконостас в соответствии с евхаристической молитвой о всех, соединенных воедино таинством Тела и Крови: о в вере почивших праотцех, отцех, патриарсех, прорецех… в Ветхом Завете, об апостолех, мученицех, исповедиицех… в Новом и, наконец, о всех живых вместе с находящимися в храме верующими. Чин не замкнут: он продолжается верными в храме потому, что Церковь есть продолжающаяся Пятидесятница и силою Духа Святого они включаются в тело, возглавляемое Христом, Который присутствует здесь и телесно, в Дарах, и в образе.
Иконостас, также как и храм, представляет собою образ Церкви, но в другом ее аспекте. Если храм есть литургическое пространство, вмещающее собрание верующих и символически включающее в себя все мироздание, то иконостас показывает становление Церкви во времени и ее жизнь вплоть до увенчания парусией. Излагая последовательно исполнение Церкви от Адама до Страшного Суда, иконостас раскрывает осмысленно временного процесса приобщением его к вневременному акту — Евхаристии. Евхаристия объединяет, «охватывает все времена и все поколения. Она — приведение истории к единству, будучи возобновлением спасительного события, через которое мы соприкасаемся со всеми временами, как до нас, так и после нас» (107). Иконостас показывает прошлое и будущее в их соприкосновении с тем, «чему время изнутри подчинено как средство цели» (107), раскрывая тем самым смысл исторического процесса вплоть до его завершения, до осуществления того, что нарастает во времени, точнее творится в сотрудничестве (συνεργία) Бога и человека (108). Иначе говоря, иконостас показывает это сотрудничество: людей и события, осмысляющие и освящающие историю, а вместе с тем и место в ней каждого человека и то время, которое для него является настоящим.
В этом, как мы полагаем, заключается основное отличие тематики иконостаса в общехрамовом контексте, включая и роспись алтаря. Как мы уже видели, роспись связана с функциями частей храма и их символическим значением. Роспись алтаря сосредоточена на совершаемом таинстве, на его смысле. И какой бы полноты она ни была, она никогда не может заменить иконостас, потому что цель ее другая. Цель же иконостаса в осмыслении временного процесса через Таинство. Он объединяет алтарь и корабль не путем комбинирования отдельных тем росписи того и другого, а путем раскрытия смысла каждого из них и смысла их сочетания воедино.
«В евхаристическом последовании совершается представление всей икономии нашего спасения, всего промыслительного домостроительства» (109). Иконостас, как мы уже говорили, раскрывает это представление божественной икономии в образе. Верующий, присутствующий при литургии, и зрительно, и умно приобщается этому представлению.
Через Христа взор верующих возводится к источнику жизни: «Христиане постигают прежде всего Личность Христа Господа нашего, воплощенного Сына Божия, а за завесой Его плоти они созерцают триединого Бога» (110). Икона Христова возводит верующего к образу Святой Троицы и «перед его взором открывается… иное откровение, а именно небесная литургия, вечная евхаристическая жертва, начавшаяся в недрах Святой Троицы от вечности, и продолжающаяся всегда, ныне и присно и во веки веков» (111).
* * *
Обычно, когда говорят об упразднении или об уменьшении иконостаса, ссылаются на то, что ветхозаветная завеса разодралась и таким образом упразднилась грань, отделяющая святое святых. Следовательно, не должно быть стены, закрывающей алтарь (112). При этом обычно не замечают, что такое понимание крайне упрощает дело: ветхозаветная разодравшаяся завеса есть лишь символ того, что через новозаветную «завесу сиречь плоть Христову» человеку открыт вход в то, чего алтарь является также только символом, — в Царствие Божие. Реальности Тела Христова соответствует и реальность дарованного Им Царствия. Но Царствие это в вечности: оно еще «будущее». Церковь же живет во времени, хотя своим причастием прославленному Телу Христову она и причастна к вечности, к восьмому дню творения, т. е. к воскресению и жизни будущего века, как и корабль храма, будучи причастен к алтарю, по причастию этому именуется Царством Божиим. Грань еще фактически существует. Царствие Божие не показуемо непосредственно и Сам Христос раскрывал его в образах — притчах; оно показывается в образе носителей этого Царствия и притом показывается именно на грани святого святых новозаветного храма.
Как мы говорили выше, уподобление апостолам Павлом плоти Христовой завесе послужило причиной того, что алтарная преграда; точнее космитис, стал пониматься как образ ветхозаветной завесы (космитис — и изображение распятого Христа, и образ катапетасмы). В дальнейшем отождествление значения и функции ветхозаветной завесы переносится на иконостас и продолжает жить в церковном сознании, причем аналогия эта применяется не к завесе царских врат, а именно к преграде и иконостасу в целом, которые завесой не являются. Так катапетасмой именуется иконостас в требнике Петра Могилы. Такое же понимание мы встречаем у митрополита Филарета. Он называет иконостас «внутренней стеной храма, которая заменила таинственную завесу Соломонова, раздранную в час искупления» (113). Если аналогия между преградой и ветхозаветной завесой выражалась лишь в символическом образе, как бы в зачатке, и только указывала на смысл завесы, то в иконостасе этот символический образ расшифровывается: раскрывается смысл разодранной завесы. Здесь мы видим становление, во времени плоти Христовой, через которую осуществляется единство «небесных и земных», Бога и человека. Это становление плоти Христовой и его результат показываются как раз на грани неба — алтаря и земли — корабля, соединяя в этом образе две части храма. Таким образом иконостас воспринимается как разодранная завеса, которая является не разделением, а соединением двух миров, обозначая грань между ними.
Со своего рода отождествлением иконостаса с ветхозаветной завесой мы имеем дело и в изображениях на нем серафимов и херувимов, всегда присутствующих в разных его местах, хотя и не входящих, за исключением приведенного выше примера, в круг его тематики (114).
Действительно, иконостас закрыл и совершение литургии, закрыл и роспись алтаря. На этом основании, как мы видели выше, противники иконостаса считают, что он так же как тайное чтение молитв, «собственно исключает народ от участия в трапезе Господней».
Но прежде всего более или менее сознательное участие в богослужении не зависит от того места, на котором стоит человек и от того, видит он или не видит происходящее в алтаре. Эту очевидность доказывать не нужно. Можно стоять в самом алтаре, все видеть и не участвовать в богослужении и наоборот (115).
Далее: что собственно понимается под участием в трапезе Господней, из которой исключается народ, несмотря на то, что он причащается, не совсем ясно. Не участие же народа, «царского священства», в функциях священства сакраментального. Ведь «царское священство» явственно отличается от священства сакраментального и это различие подтверждается всем Преданием Церкви (116). Мысль об исключении народа из таинства доводит до ее логического заключения литургист римо-католик: верующему «остается лишь в воображении участвовать в евхаристическом жертвоприношении и терпеливо ожидать, чтобы оно окончилось» (очевидно по аналогии с messe basse). На это следует сказать, что среди современных римо-католических литургистов встречается и несколько иное представление об участии православных верующих в богослужении и именно в связи с иконостасом: «Надо признаться, говорит один из них, что иконостас и алтарная стена способны помешать активному участию верующих как мы его понимаем. Но как же объяснить то, что восточные люди получают такую пользу (profitent tant) от литургии, и в индивидуальном порядке, и коллективно?» (117). В римо-католичестве, где открытый престол является нормой, представление об этом его положении за последние годы меняется. Так, в одной из статей о внутреннем устройстве храмов читаем: «У византийцев престол почти невидим и тем не менее их богослужение дает прекрасную возможность участия народа…». Что касается самого престола, то «важнее возбудить к нему благоговение, чем сделать его совершенно видимым… Что такое престол лучше понять, если с детства привыкнуть испытывать перед ним трепет и почитать его, чем если рассматривать его со всех сторон под сильной лампой» (118).
Действительно, что видимо когда совершается таинство? Жесты литургисающего, лишь внешняя форма таинства. Когда были низкие преграды в храмах с алтарной росписью, именно эта роспись, а совсем не действия священнослужителей или святые Дары, сосредоточивала на себе взоры и внимание молящихся. Для этого она и делалась. Наоборот, чтобы следить за действиями священнослужителей, нужно было отвлекаться от молитвенного созерцания образа. Что касается святых Даров, то в православии они не являются предметом созерцания и в Церкви нет чина их ритуального показывания. Не «созерцайте и покланяйтесь», а «примите, ядите… пийте…» определяет приобщение святым Дарам: их вкушение, а не созерцание. У римо-католиков же смотрение на совершение Евхаристии и на святые Дары доведено до своего логического завершения в чине adoration du Saint Sacreraent. «Именно во святых Дарах Господь присутствует существенно или реально (praesentia realis), однако помимо Своего образа, таинственно. (Поэтому то превращение их в икону Христову, которое мы имеем в католическом adoratio святых Даров, уже есть насильственное злоупотребление ими») (119). Здесь Тело Спасителя в святых Дарах превращается именно в объект созерцания, смотрения, т. е. происходит смешение святых Даров с образом. И действительно, в одной из руководящих статей, касающихся устройства престола, после напоминания литургического указания, «которым сильно пренебрегают, несмотря на его высокую богословскую катехизическую ценность», читаем: «Когда на престоле выставляются святые Дары, следует убирать с него Распятие. Ненормально, чтобы два изображения Христа — в образе значительном (suggestive), но пустом, и в веществе (espece) таинства, таинственном, но реальном — составляли друг другу конкуренцию» (120). Роль образа прямо усваивается здесь святым Дарам. Конечно, мы не хотим приравнивать это положение протестантскому пониманию святых Даров как иконы Христовой. И все же, очевидно в ответ на реформу, контрреформа становится, в известной степени, в зависимость от ее взглядов на святые Дары. В православии после иконоборчества выработалось противоядие, уже никогда не позволяющее повторение взгляда на святые Дары как на образ и отрицание образа и его роли, не только как дополнения или разъяснения, но в первую очередь и особенно, как показания того, что именно не образ, и от чего образ отличается по своей природе. Христос в Дарах не показывается, а дается. Показывается же Он в иконе. Созерцаемая сторона реальности Евхаристии есть образ, который никогда не может быть заменен ни воображением, ни созерцанием святых Даров. Реальность Тела и образ, в совокупности, дают полноту причастия и общения: физическое соединение и молитвенное общение через образ.
Исходя из изложенного, параллель между иконостасом и тайным чтением молитв нам кажется неверной. Несомненно, что тайное чтение молитв ущербляет участие верующих в Богослужении. Ведь все богослужение и в частности его вершина, евхаристический канон, есть молитва всей Церкви, всего собрания экклисии: и свящества, и мирян. Между тем, при тайном чтении молитв народу доступны лишь вырванные из контекста отрывочные возгласы: «Благодарим Господа…» , «Победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще…», «приимите, ядите…», «Твоя от Твоих..,» и т. д. В таком виде верующие лишаются существенной части литургии, которая выпадает из их восприятия и ее последовательность становится непонятной, так что восстановление гласного чтения молитв является насущной необходимостью. С этим кажется согласны все. Что же касается иконостаса, то он не только не ущербляет участие верующих, но наоборот, как мы попытались показать, дает все возможности, чтобы это участие было наиболее полным и сознательным. Поэтому, если уж проводить параллель между тайным чтением молитв и иконостасом, то скорее в смысле противуположном тому, который видят его противники: полноте словесной, т. е. гласному чтению молитв, должна соответствовать и полнота, а не ущербленность образа, т. е. иконостас, если даже и не во всем охвате своей тематики (что не всегда практически возможно), то во всяком случае в своих основных элементах. Иначе говоря, литургическая полнота, на наш взгляд, заключается не в упразднении иконостаса при гласном чтении молитв, аивиконостасе, и в гласном чтении «тайных» молитв. Именно так слово и образ обретают полноту своего значения.
На своем историческом пути алтарная преграда должна была или раскрыться, т. е. раскрыть в образе смысл литургии и превратиться в иконостас, что и произошло в так называемом «восточном» чине литургии, или потерять смысл и потеряться сама, отмереть, как это случилось на Западе.
Раскрытие классической формы иконостаса, завершившееся в начале XVI века, происходило на Руси главным образом в эпоху наибольшего расцвета ее святости, иконописания и литургического творчества (121). Поэтому особенно свойственная этому периоду глубина проникновения в смысл и значение образа сказалась и на содержании и форме классического иконостаса.
Вопрос иконостаса в наше время безусловно связан с возрождением литургической жизни, со стремлением осмыслить, в применении к современности, оформление православного культа. Конечно, на протяжении веков, в Церковь вносилось много такого, что, хотя и могло соответствовать другим эпохам, теперь, перед лицом современности, представляется лишним и ненужным, а иногда и такого, что мы не можем принять как правильное. Иконостас явно к такого рода категориям не относится. И не следует упрощать проблему; если чего-то не было в первые века христианства, это не значит, что этого не нужно и в наше время.
Следует признать, что отрицательное отношение к иконостасу в известной мере отражает влияния католичества и протестантства. Однако, на наш взгляд, оно имеет и более глубокие причины и является, главным образом, реакцией на фактические искажения и прежде всего на понимание иконостаса как простой преграды. Действительно, в течение веков «церковная власть настаивает на том, что доступ в алтарь открыт только посвященным, прежде всего конечно священству». При этом взгляд на недоступность алтаря принимал иногда крайние формы. По словам Никиты Стифата, например, Сам Спаситель и Его апостолы повелели, чтобы совершение Евхаристии могли созерцать только священнослужители. Мирянам же это совершенно воспрещается и их место в храме далеко от алтаря, чтобы они ничего не могли видеть (122). В свете таких «перегибов», та формула, которую употребляют наши пособия для духовенства, приобретает оттенок ветхозаветного, иудейского взгляда на алтарь, как на святое святых ветхозаветного храма, куда никто не мог входить. В связи с этим законническим отношением иконостас иногда понимался в одной его простейшей функции: отделять одну категорию лиц от другой. Действительно, веками церковное сознание и воспитывалось на том, что иконостас — это стена, закрывающая доступ в алтарь и ничего больше (123).
В свою очередь, немалую роль сыграло и искажение содержания иконостаса. «В настоящее время, писал в 1892 г. Сперовский, громаднейшее большинство русских иконостасов весьма легко обходятся без деисиса» (124). «Священные изображения в современных иконостасах, говорит он, но большей части размещаются без всякой определенной идеи и порядка» и «бедность их иконографического содержания доводится иногда до крайности» (125). «Достоинство нынешних иконостасов состоит главным образом в их изяществе», отмечает тот же исследователь (126). Легко обходясь без деисиса, т. е. утеряв свое основное ядро, заменив литургическое содержание «изяществом», иконостас теряет тем самым свой смысл и превращается в бессмысленную стенку, единственным назначением которой становится действительно отгораживать духовенство от мирян.
При таком положении стремление к уменьшению или упразднению иконостаса можно было бы назвать здоровой реакцией церковного сознания, если бы это стремление не исходило из того же самого, узко законнического, ущербленного понимания иконостаса как стенки, разделяющей духовенство и мирян. Искажение здесь принимается за норму и, вместо стремления к пониманию и к сознательному восстановлению нормы, мы видим желание упразднить и то, что от этой нормы все же осталось, на том основании, главным образом, что оно непонятно.
Исправление искажений и несоответствий безусловно необходимо. Но такие исправления должны быть не простым возвращением назад и повторением прошлого и не его отрицанием или упразднением, а Творческим переосмыслением литургического наследия, живым проникновением в его духовную сущность, в его вечную основу. С одной стороны, нельзя абсолютизировать значение иконостаса, как это делает римо-католическая священная консистория для восточной Церкви в угоду «восточному» обряду, и считать, что если иконостаса нет, то нельзя и служить литургию. С другой стороны, отсутствие иконостаса нельзя возводить в норму: там, где есть фактическая возможность его иметь, естественно стремиться к максимальной его полноте и не останавливаться на его зачаточной и неразвитой форме. В иконостасе, так же как и в богослужении, мы имеем основные структуры, которые могут или сокращаться, или расширяться до полноты, но ни в коем случае не нарушаться. Так иконостас может быть более или менее полным, но он не может быть случайным размещением икон на перегородке, как не может быть и простой перегородкой, которой он никогда и не был, даже в начальной своей стадии — преграде.
Примечания:
(1) П. Муратов, История русского искусства под ред.: И. Грабаря, Москва, том VI, с. 210.
(2) См. напр. журнал Contacts № 42 (1963), с. 123.
(3) Например у митрополита Филарета Московского краткий обзор иконографического содержания отдельных рядов и обобщающая характеристика иконостаса как «постепенного развития» Церкви (Воспоминания о посещении святыни московской государем наследником, СПБ., 1838, с. 57–58), или у одного из первых исследователей иконостаса, Н. Сперовского: «Иконостас наглядно изображает историю домостроительства нашего спасения» и т.п. (Старинные русские иконостасы, «Христианское Чтение» СПБ., сентябрь–октябрь 1893, с. 324 и 336).
- Прот. Н. Афанасьев, Служение мирян в Церкви, Париж 1955, с.
- Там же с. 33.
- Там же с. 37.
- Проф. Архимандрит Киприан, Евхаристия, Париж 1947, с.
- Там же с. 165.
- Там же с. 167. Курсив автора.
- Dwirnyk, Role de I’iconostase dans le culte divin, Montreal, 1960, c. 45 со ссылкой на Dom P. Gueranger, Institutions liturgiques, I– I I , Paris-Bruxelles, 1880–1885, p. 661.
- A. Shipman, Iconostasis in The Catholic Encyclopedia VII, p. 627, цит. Dwirnyk, Role de Viconostase… там же с. 37.
(12) S. Salaville, Liturgies orientates, Paris 1932, p. 106.
(13) Dom Lambert Beauduin, L’Occident a Vicole de l‘Orient, in Irenikon № 2 (1926), цит. J. Dwirnyk, Role de l‘iconostase, p. 30. Мнение, что высокие иконостасы появились после иконоборчества в IX веке, высказывалось в русской археологической науке уже в середине, прошлого века. См. Г. Филимонов, Церковь св. Николая на Липне близ Новгорода. Вопрос о первоначальной форме иконостаса в русских церквах, Москва 1859, с. 61–62.
(14) Dom H. Leclerck, Iconostase in Dictionnare d‘Archeologie chretienne et de Liturgie, VII, p. 31.
(15) J. Dwirnyk, Role de I’iconostase, там же, с. 93.
(16) S. Salaville, Liturgies orientates, там же, с. 105–106.
- Dwirnyk, Role de I’iconostase с 47
- Там же с. 49–50.
- Sacra Congregatio pro Eccl. Orient.: Ordo celebrationis Vesperarum, Matutini et Divinae Liturgiae iuxta Recensionem Изд. 2-е, Рим, 1953, с. 4, № 6. Цит. J. Dwirnyk, там же, с. 122.
(20) Г. Филимонов, Вопрос о первоначальной форме иконостасов… с. 29. На Западе завесы, отделяющие алтарь от нефа существовали еще в XIII веке. (L. Hautecceur, Mystique et architecture, Париж, 1954, с. 138).
(21) Леклерк считает древнейшим известным примером преграды изображение с надгробия III в., находящееся в Латранском музее. Здесь изображена низкая стенка, на которой покоятся колонны с архитравом и завесой. (Dirtionnaire d’Arch. chret. et de Liturgie, VII, c. 31). Следы аркад остались в часовне неаполитанской катакомбы св. Януария, относимой предположительно к III в. (Leclorcq, там же с. 32). О следах преград, сохранившихся в римских катакомбах, упоминают Н. Покровский (Памятники христианской иконографии и искусства, СПБ., 1900, с. 11) и «Православная богословская энциклопедия», т. 5, с. 833–834.
- Церковная История кн. X, гл. 4, G. 20, 846.
- Жизнь Константина, кн. III, гл. 38, G. 20, 1097–1100.
- Wagner, Le lieu de la celebration eucharistique, in La Maison-Dieu, № 70 (1962), p. 43.
- W. О. E. Oesterley, The Jewish Background of the Christian Liturgy, Oxford 1925; J. Jeremias, Die Abendmahlsworte Jesu, Gottingen 1935; F. Gavin, The Jewish antecedents of the Christian sacraments, London 1928 ; C. W. Dugmore, The influence of the Synagogue on the Dunne Office, Oxford 1945; M. Burrows, The Dead Sea Scrolls of St. Mark’s Monastery, New Haven 1950–1951; J. Shirma, Hebreiu Liturgical Poetry and Christian Hymnclogy in Jewish Quarterly Review, Oct. 1953, 2.
- Протоиерей А. Шмеман, Введение в литургическое богословие, Париж, 1961, с. 69.
- Прот. А. Шмеман, там же, с. 118-119.
- Уже апостолы отождествляют храм и Церковь, перенося на общину и верующих атрибуты храма (1 Кор. 3, 16 и 6, 19; Еф. 2, 20–22; Петр. 2). См. Congar o. р., Le Mystere du Temple, Paris 1958, с. 181–183.
- Jean Danielou, Le Signs du Temple, 24-е изд. Париж 1942 с. 28.
- Gelineau s. j., L’Eglise, lieu de la celebration, in Maison-Dieu, № 63 (1960), с. 47.
(31) Деление храмового пространства на алтарь и корабль отмечено всеми древними литургиями (J. Gelineau, L’Eglise, lieu de la celebration, там же с. 47). У древних писателей и отцов Церкви встречаются прямые указания на деление храма и особое значение его частей, в частности алтаря. Помимо уже приведенных сведений Евсевия (сноски 22 и 23) см. св. Григория Богослова, Сон о храме Анастасии P. G. 37, 1255 Русский перевод: Творения т. 4, Москва, 1844, с. 22. В других случаях такие упоминания носят характер литургических комментариев. Св. Григорий Богослов, Стихотворение к епископам, P. G. 37, 1234, русский перевод там же т. 6, с. 77; св. Софроний Иерусалимский, Cornmentarius liturgicus P. G. 87, 3984; св. Максим Исповедник, Мистагогия, P. G. 91, 668 Д; толкование литургии, приписываемое св. Герману, патриарху Константинопольскому, P. G. 98, 389 Д — 392 А; св. Симеон Солунский, О святом храме, P. G. 155, 704.
- Св. Максим Исповедник, Мистагогия, гл. 2, G. 91, 668Д–669Д.
- Наименованию «алтарь» у греков соответствует слово βῆμα т. е. приподнятое место, не для всех доступное. Ему соответствует еврейское слово «вама» — высота, трудно доступная, где устраивались ветхозаветные жертвенники. Вима христанского храма, как полагают, заимствована из синагоги, где подобное возвышение служило местом чтения и комментирования Священного Писания (A. Raes s. j. La Liturgie eucharistique en Orient, in La Maison-Dieu № 70, 56. Emile Andre Fuchs, L’eglise, lieu de la celebration du culte Chretien in Verbum Caro № 65. (1963) с. 33.
На Западе по-видимому следовали внутреннему устройству не синагоги, а гражданской базилики, из которой, как полагают, и заимствована преграда первохристианских храмов. В древних христианских церквах место вимы строго не определяется: она служила и местом чтения, располагаясь то посредине храма, то даже в его части противоположной алтарю (J. Gelineau, Le sanctuaire et sa complexite, in La Maison-Dieu, № 63, c. 63), и местом престола, помещаясь в апсиде.
- Св. Софроний Иерусалимский, там же G. 87, 3984. То же говорится в толковании, приписываемом св. Герману Константинопольскому, там же, P. G. 98, 389 C–D.
- Г. Филимонов, Вопрос о первоначальной форме иконостасов, там же с. 29.
- В храмах армянской и абиссинской церквей, отделившихся в первые века христианства, вместо иконостаса до настоящего времени существуют завесы (A. Raes, La Liturgie eucharistique en Orient, там же с. См. также J. Dwirnyk, Role de Viconostaae, там же с. 31), которые непосредственно восприняты от иерусалимского храма (J. Dwyrnik, там же). Эти завесы закрывают алтарь вне богослужений; во время же богослужения алтарь остается открытым, за исключением Великого Поста, когда в армянских церквах завеса остается задернутой и во время совершения литургии. Следы употребления завес (гвозди, державшие веревку) остались и в старых церквах Малабара (A. Raes, там же с. 51). В Персидской империи алтарь был решительно отделен от нефа и только священники могли входить в него. Здесь почти полная аналогия со святым святых иерусалимского храма. Долгое время стена существовала и у несториан и яковитов (A. Raes, там же с. 50-51).
- Там же G. 87, 3984.
- Св. Григорий Богослов, G. 37, 1234.
- Мистаг. G. 91, 672.
- В Лазарев, Феофан Грек, Москва 1961, с. 87. Такие реконструированные преграды с архитравом и без него имеются в Византийском музее в Афинах, начиная с V в. В наше время в Греции проявляется тенденция к восстановлению таких преград в некоторых храмах.
- Задергивалась ли эта завеса первоначально только вне богослужения, или во время него, — для нас сейчас существенного значения не имеет.
(42) Г Филимонов, Первонач. форма иконостасов, там же с. 28.
(43) См. Св. Софрония, там же P. G. 87, 3984 и толкование, приписываемое св. Герману Константинопольскому, P. G. 98, 392 А.
(44) G. Xydis, The chancel barrier, solea and amoo of Agia Sophia. in The Art Bulletin 1947, 29, pp. 1–24; Felicetti-Liebenfels, Geschichte der byzantiniscften Ikonenmalerei, Olten und Lausanne 1956, Кар. IX, S. 73, ref. E. Weigand, Die Ikonostase der Justinianischen Sophien-kirche in Konstantinopel, Gymnasium u. Wissenschaft, Festschrift des Maximiliangymnasium, Munchen 1949, ss. 176–195. В. Лазарев, Феофан Грек, там же с. 88, сноска 2.
- В. Лазарев, Два новых памятника русской станковой живописи ХII–ХIII веков (к истории иконостаса). АН. Краткие сообщения Инст. истории материальной культуры имени Н. Я. Марра, вып. XIII, 1946, с. 72, сноска
- Grabar, Deux iconostases en maconnerie du XIV siecle in Recueil des travaux de l’lnstitut d’etudes byzantines, № 7, Belgrade 1961, p. 22.
(47) В. Лазарев, Феофан Грек, там же с. 88.
- Как полагают, менологии начали применяться с эпохи Василия II (976–1025), для которого были составлены лицевые святцы. (Ch. Diehl, Manuel d’art byzantin, Paris 1926, II, p. 632.
- По литературным источникам деисис известен уже с VII века: В похвальном слове святого патриарха Софрония Иерусалимского святым Киру и Иоанну говорится: «Мы вошли в церковь… Мы увидели величайшую и удивительную икону, на которой в середине был изображен красками Господь Христос и Матерь Божия, Владычица наша и Приснодева Мария, по левую сторону от Него; по правую же Иоанн Креститель и Предтеча того же Спасителя (т. е. Деисис)… Тут были изображены некоторые из прославленного лика апостолов и пророков и из сонма мучеников. В том числе находились и эти мученики, Кир и Иоанн (P. G. 3, 3557). Как мы видим, это уже развернутый деисис, написанный по-видимому на одной доске, самое естественное место которого было на архитраве. Вообще в Византии иконы для преграды писались либо каждая на отдельной доске, либо на длинных досках, носивших название «темплон» (τέμπλον). Это название удержалось у греков для обозначения всего иконостаса. От этого слова произошло русское «тябло», применяемое к отдельному поясу или ярусу иконостаса.
- Св. Симеон Солунский, G. 155, 345.
- В. Лазарев, Феофан Грек, там же с.
- В. Лазарев, Два новых памятника», там же с. 72.
- Н. Сперовский относит появление, высоких иконостасов к XIII–XIV векам (между 1259 и 1337), Старинные русские иконостасы «Христианское Чтение» 1891 ноябрь–дек., с. 346–347.
- П. Муратов, История живописи, т. VI, с. 216; В. Лазарев, Феофан Грек, там же с. 94; его же Искусство Новгорода, Москва-Ленинград 1947, с.
- См. В. Лазарев, Этюды о Феофане Греке, Византийский Временник IX, Москва 1956, с. 200, первая сноска.
- На Западе с середины XIII в. распространились clotures du chceur и jubes, образуя вокруг алтаря настоящую стену, отверстия которой лишь в очень незначительной мере позволяли видеть священные действия Reau, L’art russe des origines a Pierre le Grand, Paris 1921, p. 162–163, сноска). Алтарь был настолько скрыт от молящихся, что они «толпились у двери жюбе, чтобы увидеть облатку во время ее возношения» (J. Gelineau, Le sanctuaire et sa complexite in La Maison-Dieu, № 63, p. 61.
- Сперовский, «Христ. Чтение» , 1893, Сентябрь–Октябрь, стр. 336. А. Грабар приводит примеры таких каменных стенок в Сербии. Так в церкви в Старо Нагоричино (1067–71) первоначально была низкая преграда с колоннами и архитравом. В начале же XIV века пространство между преградой и архитравом было заполнено и таким образом образовалась стена, которая была расписана фресками (Deux iconostases en maconnerie… там же стр. 17). В храме в Бела Црква (Каран) сплошной каменный иконостас был расписан фресками между 1332 и 1337 г.г. (А. Грабар, там же). В России каменные стены были распространены с XV века (Сперовский, «Христ. Чт.» 1891, ноябрь–дек., стр. 343). Такие стены сохранились в Троицком соборе Троице-Ссргиевской Лавры, в московском Успенском соборе и других храмах XV в., а также в Ростовских храмах XVII в.
- В. Лазарев, Феофан Грек, там же стр. 89. М. Алпатов, Всеобщая история искусств, Москва 1955, III, стр. 181. Слово «чин» означает строй, порядок.
- Таким образом, вместе с праздничным рядом, над местным ярусом появились два ряда, общей высотой почти в 3 метра.
- Преграда, отделявшая алтарь в пространстве только между двумя восточными столбами, местами существовала на Руси вплоть до конца XV века. (Н. Окунев, Алтарная преграда XII в. в Нерезе, Seminarium Kondakovianum 3, Прага 1929, с. 6).
- Сперовский относит его появление к 1528 г. («Христ. Чт.» 1892, часть первая с. 7).
- Сперовский, «Христ. Чт.» 1892, Май–Июнь, стр. 333.
- Сперовский, «Христ. Чт.» 1892, часть первая, с. 9.
(64) Сперовский, там же, часть первая, с. 10. В украинских церквах XVII–XVIII вв. Нерукотворный образ всегда Помещался над Царскими вратами. (J. Dwirnyk, Role de I’iconostase… там же, с. 41).
(65) Сперовский, там же, часть первая, с. 12. Изображения Страстей Христовых, которые при наличии места входили в праздничный ярус, здесь изъяты из общего последования литургического года (Распятие, Снятие со креста, Положение ко гроб), дополнены другими сценами (бичевание несение креста и т. п.) и выделены в отдельный ярус. В конце XVII в. многие иконостасы сооружались уже прямо с изображениями Страстей (Сперовский, «Христ. Чт.» 1892, с. 13).
(66) Сперовский, там же с. 15.
(67) В. Лазарев,Феофан Грек, там же стр. 94. В Македонии уже в XVIII в. имелось свое местное производство высоких иконостасов, но уже под сильным западным влиянием, типа барокко. Н. Окунев Алтарная преграда XII в., там же, с. 6.
- Сперовский, «Христ. Чт.» 1893, Сентябрь–Окт., с.
- Н. В. Покровский, Лекции по церковной археологии 1885–86 гг., цит. Н. Троицким, Иконастас и его символика, Православное обозрение, Москва, Апрель 1891 г., с. 698–699.
- Н. Сперовский, «Христ. Чтение» 1892, ч. 2-ая, июль–август, с.
- Н. Троицкий, Иконостас и его символика, там же с. 700. См. также Г. Филимонов, О первоначальной форме иконостасов, там же с. 60.
- «Апостольский ярус или чин есть ничто иное, по прекрасному определению Н. Сперовского, как развернутый купол древних византийских и русских храмов». П. Муратов, История русского искусства, там же с. 216. «L’iconostase n’est, en somme, que la projection sur le olan vertical… des fresques qui se deroulent sur les voutes et sur les Son ordonnance est tout a fait identique a celle de la decoration murale. L. Reau, h’Art russe des origines a Pierre le Grand, Paris 1921, p. 1–3.
«На иконостасе в 4-х – 5-ти рядах икон сконцентрировалась почти вся стенная роспись храма, распределяясь по поясам соответственно поясам и отдельным частям стенописи… Когда церковь расписывалась, иконостас оставался многоярусным, повторяя в известной мере роспись» (Н. Окунев. Алтарная преграда XII в. в Нерезе, Seminarium Kondakovianum 3, Прага 1929, с. 6. «Иконостас с замечательной последовательностью включил в себя все основные элементы декоративной росписи. Пророки и праотцы были перенесены из купола в пророческий и праотеческий ярусы, ‘праздники’ — со сводов и стен в праздничный ярус, ‘Деисус’ — из центральной апсиды в деисусный ярус, евангелисты — с парусов на царские двери…». В. Лазарев. История русского искусства, т. 2, Москва 1954, с. 165.
- В. Лазарев, Искусство Новгорода, Москва–Ленинград 1947, с. 74.
- В. Лазарев, История византийской живописи, т. 1, Москва 1947, с. 77. Эта система, ставшая канонической, была выработана уже в IX веке. Одним из самых ранних памятников с такой системой росписи В. Лазарев считает Константинопольскую церковь Феотокос Фарос, освященную в 864 г. (Мозаики Софии Киевской, Москва 1960, с. 36).
- Как убедительно показывают современные исследователи, выбор отдельных изображений и целых циклов зависит и от замысла исполнителей и устроителей храма, от событий в их жизни и жизни Церкви; он связан с местной национальной и гражданской жизнью. Стены храма могут быть расписаны событиями священной истории; но могут они быть покрыты и сценами из жития святого, которому посвящен храм, историей икон и т. д.
- Св. Максим Исповедник, Мистагогия, G. 91, 668; св. Симеон Солунский, там же, P. G. 155, 704.
- М. Didron, Manuel d’iconographie chretienne, Париж, 1845, с 423–424.
- Н. Сперовский, «Христ. Чт.» 1891, ноябрь–дек., с.
- Е. Голубинский, История русской Церкви, том II, 2 Москва 1907, с. Н. Сперовский, там же, с. 339.
- В поздних иконостасах как праотцы, так и пророки часто изображались, вместо свитков, с принадлежащими им символами или прообразами; например Моисей со скрижалями, Давид с кивотом и т. д.
- Два верхних ряда по существу воспроизводят непосредственно предрождественский цикл, точнее последние его две недели, посвященные памяти праотцев и отцов. Очевидно для наглядности эти два пояса разделены на праотцев и пророков, хотя в некоторых случаях, в невысоких иконостасах, праотцы и пророки помещаются в одном ряду (Е. Голубинский, там же, с. 350).
(82) В греческой иконографии и в подлиннике Дионисия имеются примеры изображения праздников вместе с предвозвестившими о них пророками. М. Didrоn. Manuel d’iconographie chretienne; там же, с. 425.
- Так было во всех кремлевских соборах и во всех церквах Троице-Сергиевской Лавры. Иногда, в согласии с греками, бывали и исключения (Е. Голубинский, там же, сноска с. 349) и праздничный ряд помещался между местным и деисисным ярусами.
- Ареопагитики, О церковной иерархии гл. 3 § 5, G. 3, 460. Очень возможно, что Ареопагитики, пользовавшиеся на Руси, в эпоху формирования иконостаса, большой популярностью и влиянием, способствовали его осмыслению и перемещению ярусов. На Русь они попали в копии митрополита Киприана, сделанной с болгарского перевода в 1371 г. (А. Клибанов, К вопросу о Максиме Греке, Виз. Временник XIV, Москва 1958, с. 156).
- Е. Голубинский, Ист. Русской Церкви, т. II 2, там же сноска с. 349.
(85) Е. Голубинский, там же с. 344. П. Муратов, Les icones russes, Париж 1927, с. 166.
- Е. Голубинский, Ист. русск. Церкви, т. I 2, Москва 1904, сноска с. и т. II 2, с. 343, сноска с. 349, сс. 351 и 353. В. Лазарев, История русского искусства, т. 1, с. 465 и Два новых памятника… там же с. 72 Современные греки относят слово «деисис» к этой тоехчастной иконе. Возможно, что так было и в древности. Наш же чин они называют «большим деисисом».
- Деяния Московских Соборов 1666–1667, Москва 1893; Собор 1667 г., с. 24. И. Грабарь, Вопросы реставрации, Москва 1926, с. 80.
- Е. Голубинский. Ист. русск. Церкви, с. I, там же с. 211–212.
- Ипатьевская Летопись под 6683 г., Софийский Временник под 6955 г., Новгородская первая летопись под 7066 г., Никоновская Летопись под 1547 г. См. Словарь Срезневского под словом «Деисус» Большой Московский Собор 1666–1667, там же.
- Прот. Г. Флоровский, Этос православной Церкви, Вестник русского, западно-европейского патриаршего Экзархата № 42–43 (1963) с.
- А. Грабар, Un portillon d’iconostase sculpte au Musee National de Belgrade, in Recueil des travaux de l’lnstitut d’Etudes byzantines № 7. Белград 1961, с. 16.
- Поскольку чин выражает порядок будущего века, святые воины и князья, в классических русских иконостасах, в противоположность росписи храма, никогда не изображаются в воинских доспехах и с оружием. Исключения из этого правила встречаются лишь в период упадка, в XVIII–XIX веках.
(94) А. Грабар, Deux iconostases en magonnerie… там же, с. 21.
(95) В. Лазарев. Феофан Грек, там же с. 89, вторая сноска. А. Грабар отмечает Синайскую рукопись XII в, (Grec. 418, fol. 269), которая изображает людей, молящихся перед иконостасом, состоящим из двух местных икон Спасителя и Богоматери, следы таких икон в Дафни (так же XII в.) и Самари, и дает ряд примеров Местных икон в храмах XIV в., византийских и сербских. В Каране Спаситель и Богоматерь изображены не на самом иконостасе, а по бокам, на столбах, которые сливаются с иконостасом, направо и налево от северных и южных дверей. Это их положение А. Грабар считает более древним: «Les deux images qui, a Torigine, flanquaient I’iconostase, vieandront occuper les deux intercolonnements principaux de I’iconostase luimeme, ordonnance qui sera retenue jusqu’a l’epoque тойегие», Deux iconostases en maconnerie… p. 20–21.
(96) Это соответствует тому порядку, в котором располагаются частицы на проскомидии. В сербских церквах до сих пор сохранился обычай ставить свечи за усопших именно в этом месте.
- Лк. XXIII, 43. Одним из исследователей весь иконостас объясняется как изображение рая. (Н. Троицкий. Иконостас и его символика, «Православное обозрение», Москва 1891).
- Г. Филимонов, Вопрос о первонач. форме иконостаса, там же с. 31. Новгородская первая летопись, под 1419 г., называет царские двери «райскими» (Москва–Ленинград 1950, с. 411).
- Г. Филимонов, там же с.
- Основание для этого Грабар видит в двух миниатюрах рукописи 880 г. (Bibl. Nat. Grec fol. 367 и 452), иллюстрирующих житие св. Григория Богослова. На них изображены алтарные преграды, из которых одна имеет форму буквы П, что не встречается позже VI в. Модели, которыми пользовался миниатюрист, могли быть сделаны, по мнению автора, уже начиная с 400 г. Царские двери в этих миниатюрах украшены изображениями. В первом случае изображения эти стерты, во втором ясно видны четыре фигуры в рост с нимбами (евангелисты). A. Grabar, Un portillon d’iconostase… там же с. 15.
- Менее часто здесь изображаются святые Василий Великий и Иоанн Златоуст с евангелием в руках, или с развернутым свитком с литургическим текстом. Однако встречаются и двери с изображением многих святых. См. Сперовский, там же, «Христ. Чт.» 1892, № 1–2, с. 164.
- Прот. Г. Флоровскнй, Этос православной Церкви, там же с.
- В армянской Церкви до сих пор иконография завесы, заменяющей иконостас, осталась в своей первичной, неразвитой форме: на ней изображается только крест. Характерно однако стремление чем-то пополнить этот крест: в разные периоды литургического года, в частности рождественский и пасхальный, завеса, с крестом заменяется другой, с соответствующими изображениями.
- Прот. Г. Флоровский, там же, с. 144.
- Прот. Г. Флоровский, Этос православной Церкви, там же с.
- Tyciak, Maintenant il vient (перевод с немецкого) 1963, с. 34.
- Прот. А. Шмемап, Введение в литургическое богословие, там же с. 82.
- Интересной темой представляется раскрытие взаимоотношений между развитием иконостаса как показанного в образе осмысления времени литургией, и современных ему попыток разъяснить литургию в росписи, в виде иллюстрации ее отдельных моментов в аллегориях и символах. Именно в конце XIII–XIV вв., когда определяется развитие иконостаса, на Балканах, в Византии, а затем, и на Руси появляется серия новых сюжетов (Божественная литургия, трапеза Софии, поклонение, жертве и др.), направленных к показанию в образе того, что не видимо в литургии. Попытки эти остались разрозненными и не получили развития.
- Проф. Архим. Киприан, Евхаристия, там же, с. 342.
(110) Епископ Феофан Затворник, цит. прот. Г. Флоровский там же с. 142.
- Проф. Архим. Киприан, Евхаристия, там же с. 342.
- При этом не подвергается сомнению, что завеса эта была не первая, а вторая, т. е. именно та, которая скрывала вход во святое святых. Между тем из обширной документации «следует, что ни один текст и ни одно словоупотребление не являются решающими и что избирается та или другая завеса в зависимости от того богословского смысла, который ей Придается» (Y. J. Congar, Le mystere du Temple Париж 1958, с. 173, вторая сноска).
- Воспоминания о посещении святыни московской, там же с. 58.
- А. Грабар приводит любопытный примеров Бела Црква в Каране), где херувимы и серафимы составляют основное содержание иконостаса. Он объясняет это традиционным сравнением алтари новозаветной, православной церкви со святым святых ветхозаветного храма, где херувимы помещались не только на скинии завета, но и на завесе, отделявшей святое святых. (Deux iconostases en maconmrie, там же с. 19).
- Хотя среди православных обычным аргументом в пользу открытого алтаря является именно желание возможно большей физической близости к таинству, причем близость эта понимается как возможность смотреть на его совершение на престоле.
- См. рецензию архиепископа Василия: L’Orthodoxie, «Вестник русского западно-европейского патриаршего Экзархата» № 41, 1963, с. 66 и статью архим. П. Л-Юиллье Sacerdoce royal et sacerdoce ministeriel в том же журнале № 33–34 (1960) сс. 27–44.
- A. Raes s. j. La liturgie eucharistique en Orient, son cadre architectural, « La Maison-Dieu », № 70 (1962), 63.
- Maurice-Denis Boulet, La legon des eglises de Vantiquite «La Maison-Dieu», № 63 (1960), c. 35.
- Прот. С. Булгаков, Икона и иконопочитание, Париж 1931, с. 128.
(120)А.-М. Roguet, L’autel, «La Maison-Dieu», № 63 (1960), с.110.
(121) См. Ф. Спасский, Русское литургическое творчество, Париж 1951, с. 6.
- Nicetas Stethatos, Opuscules el lettres, J. Darrouzes, A. A. (Sources Chretiennes 81) Париж, 1961, с. 285. Правда, такое отношение вызвано другой крайностью: либеральным отношением к алтарю, напоминающим, кстати, отношение нашего времени. Никита Стифат отвечает софисту Григорию, который устроил у себя домовую церковь, оставив в ней алтарь совершенно открытым.
- Практически-утилитарный взгляд на иконостас именно в этом смысле встречается среди духовенства уже в древности. Так например Феофан епископ Тавроменийский (Керамевс, 1130–1154), упоминал… великолепную алтарную преграду церкви св. Петра во дворце, построенном Василием Македонянином, объясняет назначение ее следующими словами: «место таинственного жертвоприношения отделено для священников мраморной преградой с тою целью, чтобы они могли здесь отдохнуть, пребыть безмятежно и усладить свой взор. Эта преграда, продолжает он, препятствует входу, чтобы кто незнающий или непосвященный не вздумал проникнуть в недоступное место» (Цит. по Г. Филимонову, там же, с. 26).
(124) «Христ. Чтение» 1892, часть вторая, с. 3.
(125) «Христ. Чтение» 1893, сентябрь–октябрь, с. 339. Таковы например петербургские соборы Александро-Невской Лавры, Исаакиевский, Петропавловский, Казанский и др.
(126) Там же, с. 338.