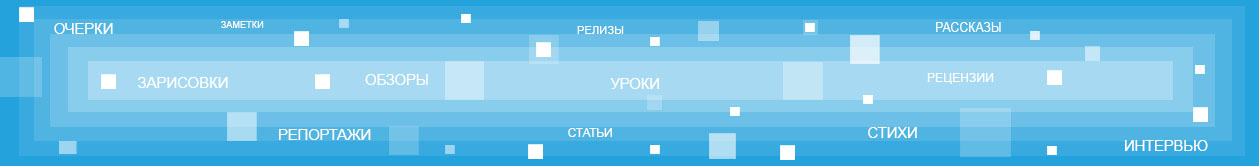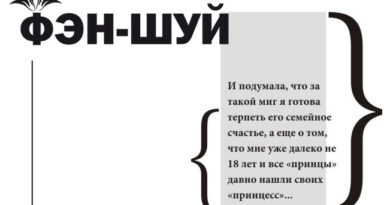Отче наш
Жанр – антимолитва
— Отче наш, проклинаю тебя во веки веков, твои безжалостные руки, терзавшие мою слабую плоть, твой громовой голос, бивший наотмашь прямо в сердце, свинцовыми словами.
Ты помнишь, сестра, отца нашего, в дни наших страданий? Это сейчас он состарился и шамкает беззубым ртом, а тогда он был ого-го! И теперь, когда я стою над его больничной постелью, над его распластанным телом, единственное желание — ударить его кулаком прямо в ненавистное лицо. Ты, сестра, была первым ребенком, желанным и милым младенцем. Поэтому с тобой он был мягче. Родиться ли мне – этому предшествовало долгое совещание в супружеской спальне. Без смущения отец не раз припоминал, как обнаружившаяся беременность была «не ко времени». И потом – как улыбающиеся врачи показали ему нечто страшненькое и убогое, что не хотелось признавать собственным сыном. Я не оправдал его надежд с самого начала. У него, у Создателя, Громовержца, красавца и первого строителя города родился косоглазый, худенький лягушонок. Почему он в тот же момент не проглотил меня, сразу, прямо в родильном доме, до сих пор остается загадкой. Я не помню того первого раза, когда он ударил меня. Только потому, что в моем детском сознании все слилось в один бесконечный, полный страха перед НИМ день. Слилось в радужные цветные пятна, различаемые сквозь слезы, если прищуриться, то герань на окне множится, множится и вот уже – целый сад из душных и кроваво-красных цветов. Он бил меня со злобой, непонятной мне даже по прошествии многих лет. Он будто уничтожал раз за разом своего врага. Глянь – а враг уже воскрес! За что, Отец мой, ты не пронес мимо меня эту чашу? Дал мне испить ее до самого дна? Я наверняка был капризным и вредным, как все дети. Я наверняка мешал тебе, и раздражал своими детскими выходками. Но, Бог мой, за это ли ты хлестал меня шлангом от стиральной машины? Или велосипедным насосом и сломал мне два ребра? За мои невинные капризы ты запирал меня в темной ванной, полной ужасных детских кошмаров на весь день? О! как я хотел тебе понравиться, особенно, когда пошел в школу! Первый класс окончил на одни пятерки. Я думал, что вот теперь-то я смогу сделать что-то, что поднимет меня в твоих глазах, обозначит мою ценность, и старался, до изнеможения заучивая таблицу умножения. В тот день, когда я принес дневник, полный пятерок, ты ходил по квартире в одних трусах: великолепный, высокий, благоухающий божественным парфюмом. С сеточкой для волос на голове. Твоя грива никак не хотела принять подобающую форму, приходилось ее укрощать. Я восхищенный замер, мне никогда не стать таким, и таблица умножения тут же вылетела из головы, оставив на прощание лишь комбинацию из «дважды два». Я робко подошел и позвал тебя: «Папа!». Ты оглянулся, и тут же сменил довольное выражение лица на маску суровости и непреклонности. Я протянул дневник дрожащими руками. Как я ждал от тебя похвалы и поддержки! Я бы отдал за твою улыбку в тот момент все блага мира. Но ты лишь хмыкнул, небрежно пролистав дневник, и приказал: «Мой руки, мать обедать зовет». И вот тогда, именно в этот миг мой страх и недоумение сменились на ненависть. Странно, что не раньше, не в тот день, когда я расплачивался за очередной грех – показал язык соседке по лестничной площадке — ты заламывал мне руку, одновременно награждая глухими ударами. И не в тот, когда я перевернул тарелку с супом, ты рассвирепел, и дал мне звонкую пощечину, а потом долго орал на меня, плюясь слюной. Все случилось, когда рухнули мои надежды, когда я понял, что мне НИКОГДА не получить твоего благословения. Я осознал, что бы я ни сделал, я обречен быть изгоем в сердце твоем, что молить о любви бесполезно, а просить пощады стыдно, что до скончания века власть твоя надо мной неизбывна и гнев твой настигнет меня, где бы я ни был. Вот тогда я и узнал острый вкус кислоты, разъедающей, испепеляющей душу. Моя ненависть нахлынула такой мощной волной, что чуть не сбила меня с ног. И я вдруг понял, как отвратительны твои голые волосатые ноги, твои крепкие плечи, как мне омерзителен твой запах (позже я никогда не пользовался никакими одеколонами и прочей мужской парфюмерией), как противен мне твой самодовольный вид в этой нелепой сеточке для волос. Я лишь успел добежать до туалета, и меня вырвало. Горечь просилась наружу. И с того дня я уже не боялся, вернее, остался лишь страх перед физической болью, обиды и всхлипов: «папочка, я больше не буду!» не было. Я отдавался на твою милость, на милость твоих затрещин и шлепков с мстительным чувством, в этот момент я желал тебе самой мучительной гибели. Ты даже не знаешь, что в моих мечтах тебя неоднократно сжирали живьем дикие звери, что твое искореженное тело много раз переезжал паровоз, тебя забивали палками и камнями, растягивали на дыбе и вешали, жгли и резали. Если бы ты подслушал мои вечерние молитвы, отче мой, ты бы ужаснулся. 10-летним ребенком я засыпал только после того, как повторял трижды перед сном: «Умри, умри, умри». Я прошел все уроки ненависти, все ее оттенки и ипостаси, я научился сквозь стиснутые зубы говорить тебе «здравствуй», про себя произнося одновременно «сдохни», я исподтишка гаденько передразнивал тебя и моя сестра, твоя дочь покатывалась со смеху над этими пантомимами, я выкалывал твои глаза на фотографиях, которые воровал из семейного альбома. С годами я научился предчувствовать вспышки твоей ярости, как опытный сейсмолог я различал малейшие толчки, предшествующие землетрясению. Иногда ловко уходя от неизбежной казалось бы стихии, а чаще с неуемным упрямством, встречая ее удары. Даже больше, став старше, я стал сознательно провоцировать сход лавины, выброс магмы, камнепады и смерчи, уносящие последние остатки нашей мнимой родственной близости. Я со злорадством наблюдал, как постепенно краснеет твое лицо, как учащается дыхание и руки сжимаются в кулаки, еще жест, слово и… моя голова отлетает к стене, еще раз, еще раз, еще раз. Почему-то мне не приходило в голову ударить тебя в ответ. Поначалу это было равносильно самоубийству, слишком мал был я и огромен ты, но потом ведь я возмужал, хоть и не достиг твоих размеров Зевса, но уж полу-боги то точно годился. Но странным образом я мог лишь изо всех сил тебя ненавидеть. Моя тихая мама никогда не вмешивалась в наши с тобой отношения, ты был тираном в полном смысле слова. Мы жили на твои деньги, мы подчинялись исключительно твоему распорядку, осуществляя твои планы, реализуя твои мечты, и любая мелочь, не вписывающаяся в картину созданного тобой мира, вызывала твой пылающий гнев. Помню, как мне завидовали одноклассники. Еще бы, ведь я единственный приезжал в школу на папиной «Волге», у меня у одного были фирменные настоящие джинсы и парочка польских джемперов, у меня постоянно водились карманные деньги. Про моего отца восторженно отзывались мои училки и, как одна, кокетливо поправляли прически, когда он заходил узнать, что там его оболтус опять натворил. Про моего отца писали газеты, рапортуя о том, как здорово он руководит строительной отраслью. «Вот бы мне такого отца», — говорил мне мой друг Пашка Муравьев, чей родитель был конченым тишайшим интеллигентнейшим алкоголиком, редко приносящим зарплату домой. А я думал, какой он дурак, Пашка, и до слез завидовал, когда однажды после очередного трехдневного запоя его отец вышел во двор и, поправляя очки, предложил поиграть с нами в футбол. Бегал по полю, только мешая нам, а когда Пашка забивал гол, орал, как сумасшедший и подкидывал своего Марадону выше облаков, обнимал его, и хлопал дружески по спине. Так они и ушли домой, обнявшись.
Моя концепция бытия сформировалась в старших классах — быть не похожим на отца. Ты, помнишь, сестра моя, как я обрился наголо, когда однажды соседка (та самая баба Глаша, которой я язык показал, и в этот же день поплатился за это) обронила: «Эх, повезло тебе с волосами, экая копна густая, от отца досталась красотища, никогда лысым не будешь, помяни мое слово». Бедная, вечером чуть в обморок не грохнулась, когда я мимо прошествовал с сизой голой башкой. А еще я решил, что никогда не пойду в строительный техникум, и выбрал себе самую неподобающую профессию – искусствовед. Помнишь ли ты, сестра моя, какой скандал тогда разразился, как вопил отче наш, обзывая меня слюнтяем и вырожденцем? Я втайне торжествовал. Ты помнишь, как с третьего курса я добровольно ушел в армию, когда отец посоветовал мне сначала закончить учебу, (какое ни есть все же высшее образование), ушел и в редких письмах своих домой старательно передавал привет всем родным, ни разу не упомянув имя отца нашего? Ты помнишь, как я бросил свою первую любовь после того, как она однажды назвала моего отца симпатичным? Только ты, сестра моя знаешь, как можно ненавидеть все, что связано с отцом нашим. Ты не бунтовала в отличие от меня, научилась подчиняться, и знать свое место, спаслась тем самым от побоев, но не от злобы и уничтожения. Ты читала, что советовал тебе папочка, носила шмотки, которые покупал папочка, часами покорно «брила» крыжовник для того, чтобы сварить любимое нашим папочкой королевское варенье. (Делается это так: берешь отдельную ягоду, и с двух сторон проводишь бритвой, убирая тем самым «хвостик» и «носик»). Ты поступила в технический Вуз возле дома, оставив мечту уехать в Питер и стать дизайнером одежды. А раньше — ты плакала в подушку, когда в 8 классе папочка обнаружил любовную записку от твоего одноклассника Романа Пивоварова. И потом заявился к его родителям, и угрожая парню милицией и тюрьмой «за изнасилование» добился вашего разрыва. Романа тогда перевели в другую школу, потом он уехал в Москву, женился, у него двое детей и собственный небольшой автосервис. А у тебя муж – забавная копия с отченашего. Как будто копировал первокурсник. Тиран и ревнивец. Но без папочкиных регалий. Ты вышла за него тогда, когда твои ровесницы уже проводили своих ребятишек в старшие классы средней школы. Испугалась своей застарелой девственности, своего одиночества в родительском доме. Я тогда уже уехал из семьи навсегда. Продолжая незримую борьбу с отцом нашим. И вот мы стоим перед его кроватью, на белом — его покрытые пигментными пятнами руки, его худые, старческие ноги жалко торчат из-под простыни, его щеки впали, и глаза поблекли, лишь копна непослушных волос, уже седых, по-прежнему богато покрывает голову. Он с шумом втягивает, и выпускает из легких воздух. А я раскинул черные крыла, я со злобой вглядываюсь в его такое знакомое и такое чужое мне лицо. Я сильнее тебя, отче наш, наконец-то я сильнее, ты в моей власти, ты жалкий и высохший, а я полнокровный и жилистый. Ну, ударь меня! Я наклоняюсь над тобой, сверкая глазами, и вдруг … ты улыбаешься мне.
— Сын мой, помнишь ли ты те счастливые дни, когда мы все жили вместе, одной семьей. Ты, может, не знаешь, но когда мама сказала, что снова ждет ребенка, нам было очень трудно. Но я решил, что это обязательно будет сын! Я поругался с мамой твоей, наверное, впервые я накричал на нее, разозлился за ее страх, за ее слезы. И ты остался жить! Мы кормили тебя молоком и хлебом, сами питались порой мороженой свеклой, потому что я только пришел в трест и еще не имел никакой серьезной должности, а продуктов было в обрез. Ты был такой маленький и тощий, что я иногда боялся, что ты умрешь. Слушал, как ты дышишь по ночам. А помнишь ли ты сын мой, как ты лихо играл в футбол. Я сидел на балконе и видел, как ты забивал самые красивые голы, твой друг Пашка тебе и в подметки тогда не годился. Ты никогда не плакал, когда я наказывал тебя, не был хлюпиком, весь в меня! Я всегда хотел превратить тебя в настоящего мужчину, чтобы ты ничего не боялся и научился отвечать за каждый свой дурной поступок. А как я гордился, когда ты в первом классе стал отличником. Помнишь, что тогда я сказал своему шоферу, чтобы он отвозил тебя в школу? Это была моя награда. К тому времени я мог тебе дать, все, что нужно пацану. Я купил тебе настоящие джинсы. Ни у кого таких не было! Мать говорила, что нельзя так баловать мальчишку. Но что она понимает. Я ведь мечтал, что ты пойдешь по моим стопам и станешь строителем. Я бы наплевал ради тебя на все свои принципы, и обеспечил бы тебе со временем лучшую должность. Но ты поступил по-своему, ты всегда имел свое мнение, весь в меня! Ты настаивал на своем, и выводил меня из себя, но никогда не сдавался. Как мы были счастливы тогда, сын мой, с твоей матерью, когда вы были рядом: ты и сестра твоя. А потом вы нас покинули. И мы остались одни. Я так ждал твоих писем, когда ты ушел служить в армию. Вы покинули нас. И вот я лежу тут слабый, а ты молодой, живи, сын мой, прости, если что не так.
Он умер.
2008 год.